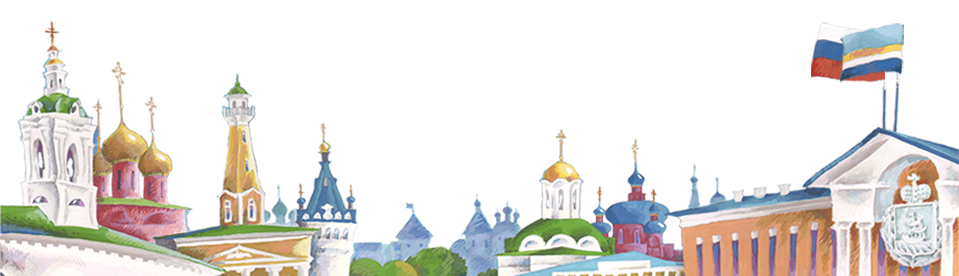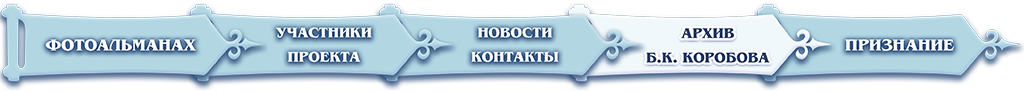ИСТОРИЧЕСКИЕ КНИГИ / Чаев Николай Александрович (материал предоставлен Ю.В. Лебедевым).
1613 Избрание на царство царя Михаила Фёдоровича Романова (сказание в лицах)
Чаев Николай Александрович
(1824-1914)
Чаев (настоящая фамилия Нечаев) Николай Александрович (настоящее отчество – Иванович) родился 8 мая (5 апреля) 1824 года в Нерехтском уезде Костромской губернии в купеческой семье. Он учился в Московском частном пансионе Л. И. Чермака, где получил первоначальное образование и Ф. М. Достоевский, а потом – в Костромской губернской гимназии. В 1850 году Чаев окончил юридический факультет Московского университета. С 1852 года он находился на государственной службе сначала в Риге, потом в Москве, в Московской дворцовой конторе.
30 октября 1867 года Чаев, знаток русской истории, археологии, палеографии, был утверждён помощником директора, а затем и хранителя Московской Оружейной палаты.
Кризисное пореформенное время пробуждало в обществе интерес к истории. Значительных успехов достигла тогда русская историческая наука, развивавшаяся в двух направлениях. Сторонники государственной школы, шедшие за С. М. Соловьёвым, считали высшим выражением исторической жизни нации сильное государство. Учёные демократической ориентации, вслед за Н. И. Костомаровым, были противниками самодержавия и говорили о необходимости децентрализации, о решающей роли в русской истории антиправительственных народных движений и бунтов.
Историческая тема заняла одно из ведущих мест в русской литературе и, особенно, в отечественной драматургии. Пристальное внимание драматургов вызывали тогда две эпохи отечественной истории: конец XVI века, период царствования Ивана Грозного с его неограниченным самовластием, и начало XVII века – время мятежей и смут, нашествия иноземцев на Русь и патриотических народных движений.
Появились драматурги, целиком посвятившие своё творчество исторической теме. Дмитрий Васильевич Аверкиев (1836–1905) был автором исторических пьес «Мамаево побоище», «Слобода Неволя», «Фрол Скобеев», «Каширская старина». Но пальма первенства в исторической драматургии принадлежала в те годы незаслуженно забытому ныне Николаю Александровичу Чаеву, стороннику государственной школы в осмыслении хода отечественной истории.
Современники и дореволюционные ценители литературы считали его одним из наиболее интересных русских драматургов. П. В. Анненков полагал, что «…представители нового направления в исторической драме г. Чаев и гр. Толстой могут быть поставлены рядом с именами г. Островского и покойного Мея». Столь же высоко оценивал творчество Чаева А. М. Скабичевский.
Достоевский, познакомившись с ним в Москве, сообщал брату 20 марта 1864 г.: «Здесь есть некто Чаев. Со славянофилами не согласен, но очень ими любим. Человек в высшей степени порядочный. Встречал его у Аксакова и у Ламовского[1]. Он очень занимается историей русской. К удовольствию моему, я увидел, что мы совершенно согласны во взгляде на русскую историю. Слышал я и прежде, что он пишет драматические хроники в стихах из русской истории ("Князь Александр Тверской"). Плещеев хвалил очень стихи. Теперь в "Дне" (№ 11-й) объявлено о публичном чтении хроник Чаева с похвалою. Я поручил Плещееву предложить ему напечатать в "Эпохе"».
13-14 апреля 1864 г. Достоевский снова обращался к брату: «О Чаеве я тебе писал уже раз и всё ждал ответа. <…> Аксаков в газете "День" хвалил стихи. Чаев – человек образованный и смыслит русскую историю. Островский сказал, что драматизма нет, но что это хроника, а стихи прекрасные и есть удачные сцены <...>. Чаев сам хотел тебе писать. Человек он очень хороший. Но драму его прочти со вниманием...». Вслед за этими письмами в журнале братьев Достоевских «Эпоха» появились пьесы Чаева – «предание» «Сват Фадеич» (1864, № 11) и драма «Дмитрий Самозванец» (1865, № 1).
4 апреля 1864 г. Достоевский вместе с Чаевым участвуют в литературном утре в Москве в зале Кокорева. Достоевский читает «Записки из Мёртвого дома», а Чаев – фрагменты из исторической хроники «Князь Александр Тверской».
Хроники, драмы и комедии из древней русской истории, созданные Чаевым, занимали видное место в драматической литературе своего времени. Он явился автором исторической комедии «Сват Фаддеич» (1864), исторических драм «Димитрий Самозванец» (1866), «Свекровь» (1867), «Царь и Великий князь всея Руси Василий Иванович Шуйский» (1883), «Грозный царь Иван Васильевич». Перу Чаева принадлежали также комедия «Знай наших» (1876), романы «Подспудные силы» и «Богатыри (из эпохи Павла I)», поэма «Надя» и сборник «Стихотворения Н. Чаева» (1896). Чаев-драматург питал археологическую страсть к допетровской старине, к народным песням и обрядам. Он стремился к документальной точности в воспроизведении быта и нравов эпохи. В то же время он вводил в исторические пьесы прямой нравоучительный смысл.
В 1884 году за драму «Царь и Великий князь всея Руси Василий Иванович Шуйский» Чаев получил Грибоедовскую премию.
В 1874 году Чаев принимал участие в организации Общества русских драматических писателей, занимал должность председателя этого общества. Он являлся также членом Общества любителей российской словесности, а в 1872–74 и 1878–84 гг. – его председателем. После смерти А.Н. Островского, Чаев заведовал репертуарной частью московских театров.
Скончался Николай Александрович 29 (16) ноября 1914 г. в Москве в возрасте 90 лет.
1613
Избрание на царство царя Михаила Фёдоровича Романова
(сказание в лицах)
1
21 февраля 1613 г. Москва
Красная площадь. На площади ратники без оружия, ополченцы, многие в лаптях, с котомками и запасною обувью за плечами, женщины, дети, купцы, посадские и всякий народ, стоят кучками
1-я девушка
Вот благодать-то… Господи! Зима ещё, а уж теплынь какая. Я нонче, девушки, с зарёю встала, боялась, как бы не проспать.
Няня
Вскочила ни свет, ни заря, умылась кое-как, шушун накинула и убежала.
1-я девушка
Вовсе не до свету. Всходило солнышко, я вышла на крыльцо. И что за утро было, девушки. От нас весь Кремль как на ладони. Главы гормя горят, а небо чистое ни облачка, и стая белых голубей кружится, носится по синеве, сверкая крыльями, что серебром.
Няня
А, Игнатьевна. Вот гора с горой не сходится…
Женщина в шушуне
Давно ли из Ростова-то?
Няня
На Сретенье приехали. И всё ещё не устроимся… В хоромах-то казацкий сотник жил… Все стёкла повыбили… Полы насилу отмыли.
Женщина
А пограбили, поди, немало?
Няня
Нет. Грабежа не было большого, а кой-что из погребов слиняло… Шубейку у меня в чулане, я оставила, на лисьем меху, киндяком крыта, слямшили; да у Машутки, у сенной[2], две понёвы, одну только к празднику хозяйка подарила ей. А вы, чай, страху натерпелись?..
Женщина в шушуне
Не без того… У нас на дворе князь Трубецкой Митрей Петрович стоял с казаками… Сарай сожгли… Бельё украли хозяйское, сушить мы вывесили; в вечерни так, выходим снимать, глядь, ни лоскута, одни верёвки.
Няня
Дело. Так и не сыскали?
Женщина
Где отыскать. Дым коромыслом шёл, драки у казачишек, перепьются. И у князя съедутся знаемые бояра – песни, пляс, пир горой.
2-я девушка
Подвинемся поближе. Вон на крылечко у церкви встанем.
Няня
Ещё что вздумали. Полезу ли я… Вы рады хоть на башню влезть. Да не бегите. Всё баловницы, матушка. – Идите, погуляйте. Сама бы шла, вот и узнала бы. (Отходит в сторону.)
Нижегородец
Замаялся… Зато и нагляделся. Бог привёл. Что духовенства одного, бояр.
Гость торговый
В Успенском был, на молебствии?
Нижегородец
Везде: на патриаршем дворе, в палате золотой, где совещалися. Больно уж душно было. Палата битком набита… Грамоту подписал. Я думал споначалу, одни боярски будут подписи.
Гость
Нет, все как есть, посадские, крестьяне… Кои неграмотны, кресты наставили. Я за троих, просили, руку прикладал.
Нижегородец
В Москве иногородным, что в лесу. Вечорсь насилу отыскал Кузьму Захарыча. Заметный, кажись бы, а вот поди-ты, кого ни спросишь, где живёт, не знают.
Гость
Да, Москва большая деревенька, заплутаешься. Ты это говоришь про Минина Кузьму?
Нижегородец
Нешто. Ведь наш он, с Нижнего. Я грамоту ему привёз. Я тоже увязался, было, с ним идти и шёл до Ярославля, да ногу повредил, зашиб, вернулся. Бог не привёл дойти до Белокаменной. (Отходит в толпу.)
Дьяк
Тебе в приказ поместный надо.
Боярский сын
Ходил неделю ежедён. Ждёшь, ждёшь подьячих ваших, ноги отстоишь. Дождёшься – «погоди до завтра», одна речь у вас в приказах.
Дьяк
Как с этим быть? Ведь дело-то не одно твоё. Да ты, я вижу, новичок, впервые по судам. А всё ж, поди, слыхал пословицу: сухая ложка…
Боярский сын
Рот дерёт?
Дьяк
Вот, вот. (Уходят.)
1-я девушка
Сказали, царь поедет на коне с боярами. А, слышь, народу грамоту станут читать. Знали бы, пошли.
2-я девушка
Всё ж подождём, посмотрим, послушаем.
1-я девушка
Далеко; вряд ли услышим. Я думаю, что царь…
Няня
Так вот для вас он и поехал, царь. Бабёнка тряпьём торгует, по дворам мычется купецким да боярским. Она и наврала, а они и уши развесили. Царь.
Дворянин, старик, захребетник[3] Романовых
Царь в Кострому уехал с матушкой.
Няня
А ты чей будешь?
Дворянин
Божий да государев, бабушка. Уехали; в Москве-то нагостились; в осаде у поляков в Кремле маялись без мала полгода. (Народ обступает его.) Терпели голод и холод: поляки все дрова прижали. Топить бы, а нечем – настрадалися.
Няня
А в Костроме-то сродники, что ль, у них?
Дворянин
Не сродники, а приютились пока что в Ипатьевской обители, под кровом Фёдоровской Божией Матери. Хотели споначалу жить в вотчине, да побоялись.
Посадский
Я тамошний… Гляди, как Бог привёл; хоромы-то в Ипатьевском монастыре, в коих будут жить они, были Годуновых, врагов смертельных их, Романовых.
Паломник
Да. «Тии спати быша, а сии восстали», – глаголет псалмопевец-то. Поживёшь, посмотришь на белом свете за всё так: всему, делам всем нашим человеческим, бывает суд. Вот в смуту, вспомните, вся гниль и дрянь наружу вылезла: «Гляди на меня. Вот я какая». Никто не звал, сама, гад, выползла и объявилась. Али опять на Тушино, в стан к вору, к Заруцкому, с Маринкою сорокой, кто убежал? Братьев своих предав, кто землю грабил? Салтыковы, Андросовы. С князем Дмитрием Михайловичем да с Мининым шли те, в ком совесть не заржавела.
Посадский
Сермяга, лапоть да онуча шли. Шли не дорогой, целиной, болотами, трущобой, топью; за лаптем сапогу сафьяну где угнаться, – стопчется, увязнет.
Стрелец
Правда. Шёл лапотник, не бархатник. Оружье – вилы да топор, а ляха доняли. (Уходит.)
Посадский, москвич
Да, подумаешь. Что было и что стало. Поутру встанешь, благовест в церквах к ранним обедням. Тишина и мир.
Отпетый (неизвестно какой человек)
Стрелец
Отпетый! Ты ли это? А? Откуда?
Отпетый
Всё я ещё. Ну, а откуда… Оттудова, где был, да сплыл.
Стрелец
Всё прокуратишь. Он тараканьей веры, братцы: где щель увидит, заползёт. На Тушине в боярах был, наворовал, небось, не мало?
Отпетый
Там, брат, гляди, тебя бы самого не обокрали. Народ был выжига.
Стрелец
И ты, чулан не заперт, мимо не пройдёшь. Я думал, он подох, а он, гляди ты, шапка набекрень, сапог с носком, боярский. (Уходят.)
Посадский
Ты баишь, его выбрали, Романова? А у нас весть была, князя Голицына.
Дворянин
Эта, друг, ваша весть с нашести.
Посадский
Так. Сын, стало, Фёдора Никитича, в постриге Филарета. Слыхали, а матушка каких?
Дворянин
А мать боярыня, а ноне инокиня Марфа Ивановна, Шестовых родом. Постригли их обоих силою, по приговору бояр, вишь, за измену. После пострига разлучили: его сослали в монастырь у Бела моря, а её на житьё свезли в посады за Онегу. Детей, Михаила пяти лет и дочь Татьяну, осмилетку, к опальным тёткам жить отдали, на Белоозеро; одна-то тётка была за князем Черкасским, другая в ту пору ещё девица. Я был поддядькой у детей. В опале тётки тож нужду терпели. Детям молока, яиц, бывало, не допросишься; холст выдавали приставы дерюгу, гниль. Вот с коих пор Михаил-от нужду спознал. Так этот и на царстве не забудет убога нищего.
1-й ополченец
Вы ещё не ушли?
2-й ополченец
Сжидалися. Вот ноне все подошли, опричь убитых.
3-й ополченец
А много ваших полегло из Мурома?
2-й ополченец
Трое, царствие небесное. Зять у меня, да с Надоги, село соседнее, двое.
Туренин
Сейчас миряне вам грамоту вычтут. С царём избранным.
Голос
Спасибо… и тебе, боярин.
Туренин
Дождались. Наступит тишь да гладь.
Голоса
И Божья благодать. Намаялись. Одним ворам житьё-то было, лафа. Знамо, в мутной воде она, рыба-то, лучше ловиться. Ловцы найдутся, не горюй.
Туренин
Ну, нет. Теперь ворам рыбачить плохо, не рука; разве где удочкой, а неводом, пожалуй, сам попадёшь в матню.
Голоса
Увёртливы. Ведь у воров везде не кумовья, так сваты. А ворон ворону глаз не выклюет.
1-й купец
Идут никак. Народ заколыхался.
Посадский
У Вознесенского монастыря. Наши с ними шли. И давка, сказывают, страсть. А ты откелева?
2-й купец
С Рязани. У меня тесть оттуда, в выборных, кои на Кострому идут звать Государя. Архиепископ наш, Феодорит, тож в земском съезде здесь.
Посадский
Слышно, с послами крестный ход пойдёт с московскою святыней в Кострому.
1-й купец
И мы про это слышали. Не знаю, правда ли, стрельцов погнали целый полк с знамёнами. У вас рязанские тож Михаила выбрали?
2-й купец
Его же. Да поскажут всюду, во едино сердце, все Михаила выбрали Романовых.
3-й купец
Все города единомысленно. Чудо совершилось. Правда и мир облобызалися
1-й купец
Воля Господня въяве здесь.
2-й купец
Идут. Морозов впереди-то с грамотой?
1-й купец
Нешто. Фёдор Иваныч. Двор на Зацепе у него. Что одной челяди.
2-й купец
Гляди, бояр-то. Валом валят в ворота.
(Фёдор Иванович Морозов и бояре через Спасские ворота входят на лобное место. Морозов выступает вперёд с грамотой. Все снимают шапки. Ф. И. Морозов читает громко и не торопясь.)
«Лета семь тысяч сто двадцать первого, февруария в двадцать первый день, в царствующем богоспасаемом граде Москве, митрополиты, архиепископы, весь священный собор, царский синклит, бояра, воеводы, торговые, посадские люди и прочие, сославшись со всеми городами, Богу изволившу, избрали и положили быть царём и Государем всея России блаженной памяти царя Феодора Ивановича сроднику, Михаилу Феодоровичу Романову»
Голоса
Здрав буди, царь Михаил Фёдорович Романов! В Кремль! К молебну, православные.
II
Кострома. 14 марта 1613 г.
Двор палат бояр Романовых; на втором плане, посередине, хоромы; из-за кровель видны местами главки колоколен, церквей, верхи монастырских строек. На дворе и на кровлях снег. Из труб валит дымок.
Кучка народа стоит на площади двора.
2-й посадский
Ты из собора, что ль?
1-й посадский
Ништо. Теснота, не пробьёшься, приложиться хотел к Владимирской… не удалось.
2-й посадский
С Москвы крестным ходом много пришло… с Ростова, из-под Сергия, от всюду.
1-й посадский
И что святыни… Господи! Образа Владимирские, письма Петра митрополита, московских чудотворцев. Хоругви, кои здешние, а есть и из Москвы принесли. Наши костромичи встречать ходили; Фёдоровскую подымали. Из Ярославля тож пришли с московскими.
2-й посадский
Да отовсюду. Наши из Переяславля тоже пристали к ходу с иконами. А для чего этот крестный ход? Не знаешь ли?
4-й посадский
Толкуют разно. Монах какой-то рассказывал: царя будто бы выбрали. Грамоту и носят по городам с иконами.
2-й посадский
Царя обрать недолго, да ведь тоже какого выберешь; прещение царёво – львиный рев, роса – царёва милость.
Паломник
Да. Не будь святых молитвенников на Москве, Петра, Филиппа, Ионы,Феогноста, Сергия, князья наделали бы дела. Недаром молвится: «Москва на крови построена». Кто примирял князей, гнев сдерживал? Угодники святые. Слово-то кротко, да молитва могуче ругани.
Городовой стрелец
Пустое дело; когда собрались выбирать, зимою по малину. Ну, выберут. А что король литовский скажет? С Владиславом-то как быть. Его ведь звали; и король позволил на Москве быть государем сыну. Его куда же деть? Аль по боку?
Казак
Ну, по боку зачем? А в шею. Пора и честь знать ляхам, наругались над нами вдосталь, псы.
Горожанин
Ещё бы. Ведь они, как хрен, проклятые; я посадил на огороде два корешка всего. И что ж ты думаешь, мой хрен как учал пановать, весь огород заполонил. Где преж была капуста, свёкла, морковь, нонче хрен один; всех выжил, окаянный; так вот и ляхи; только их впусти.
Калужанин
Пора очнуться. На кой ляд нам вся эта иноземщина. Мы ещё великим постом в Калуге порешили миром выбирать в цари своих родов.
Подьячий
Правда ли, обрали на Москве свово московска рода?
1-й посадский
Слух идёт.
Старик начётчик
Не слух, а правда: я сам на Москве к грамоте руку прикладывал и за себя, и за других, как мне не знать. И избран здешний, свой, отрок млад, сродник царя блаженной памяти Фёдора Иваныча, Михайло Романовых. Вон их хоромы; здесь живёт он с матушкой, инокиней Марфой Иоанновной. (Толпа окружает горожанина.) И со святынею с Москвы пришли на Кострому за ним; зовут его.
Подьячий
Единогласно, всей землёй выбран, слышь. Шостнадцати годков всего, а выбрали.
Городовой стрелец
Шостнадцати годков? Был же у выборных, знать, разум выбирать чуть не младенца, малолетка в цари. Мозгами видно пообносились. Они шутили: царством править – не орехи грызть.
Купец
Тебя жаль не спросились. А где ты ноне взрослого-то сыщешь, прямика и честного? За скипетр-то да за державу браться надо чистыми руками. А у кого оне не запачканы? Ну-ка, скажи мне, по душе, без хитрости.
Калужанин
Что говорить, неправды много. А уберечься как? Не рукавицы надевать подьячему.
Купец
Вот то-то. Бог по великой своей милости может и указал обрать отрока непорочна, чистого.
Старик начётчик
Мудрили, слышно, выбирали и бывалых, из семибоярщины, своих приятелей, да знать земля-то поумнела, поразглядела своих радельщиков.
Купец
Путано мало ли в сумятицу. Четырнадцать, считай от Годуновых, годов страда была… Чего, чего не натерпелись от воров, да от раздоров бояр из Тушина, прах их возьми проклятых.
Старик начётчик
А королю нож вострый этот выбор. До Михаила-то, рассказывают, уж добиралися. Простец, крестьянин, слышь, из Домнина, их вотчина, завёл злодеев в лес, во вьюгу. Его убили, знамо, вороги, ну и сами сгибли, псы.
Купец
Я слышал тоже. Здесь на дворе не распускают, молчат об этом. Боярыня-инокиня строго-настрого не велела говорить. Боится что ль. Вот это христианин: душу положил свою, спас брата, ближнего, ныне царя избранника. Бог награди его небесным царством. Не даром мать дрожит за сына, боится его на царство отпустить; пока, слышь, отказала выборным.
Старик начётчик
Это враньё. Нонче посольство править будут.
Посадский
В соборе?
Старик начётчик
Нет, в хоромах, сказывают, здеся. Сюда придут.
Купец
Как не бояться матери. Гроза хоть стихла. А всё, не дай Бог, искра залетит с пожарища, и снова зарево займётся на всю Русь.
2-й посадский
Бог милостив. Не слышно ничего худого. Казачишки да сброд, отрепье, беглые шалят кой-где. А кроме не слыхать шатости.
Паломник
Не слышно, ты походи по городам, как мы вот, и послушай.
(Толпа обступает.)
Дива нет, что государыня боится за избранника, родного сына. И море разбушуется, уставится и стихнет не вдруг. Вражда, нелюбье, зависть кой у кого кипят смолой в котле, в душе и в сердце. Кровь братняя на стогнах городов ещё не высохла. Давно ли церкви, Божии обители, пылали. В любой семье, почесть, утраты, слёзы… Не скоро быль травою зарастёт. А зависть? Кто-кто не ладил влезть на стол-то царский. Дым коромыслом шёл. Святых хоть выноси. Давно ль стояльщики, как Гермоген, столпы могучи, пали измены жертвами. Святого Духа дар неотъемлем у того, кому ниспослан, и его коснулися: помазанник Господень пострижен силой, отдан в плен врагам. Бог разум отнял, знать, у думцев. Сердце русское неужто не провещилось, не дрогнуло у них, не взговорило, когда прощалися на рубеже родной земли с державным старцем узником? Отцы и братья. Все виноваты мы. Все до единого. И вот об этом крепко подумать надо всей земле. Ведь, аще не Господь воздвигнет дом, всуе трудится зиждущий.
Старик начётчик
Правдива речь. Зол чаша переполнилась. Грех наш велик.
Паломник
И милость Божия велика. Предела нету ей.
Купец
Земля невдавне гибла, а вот, Бог дал, спаслась. А чем спаслась? Любовью. На клич любви святой земля восстала, как един борец, а безоружны были… Кто с вилами, с косой, да с топором крестьяне-то. А вздули ляха, Бог помог.
Паломник
Любовь да вера – всё. Народу верующу сердце и душа едина и по писанию.
Подьячий
Так, так. Да ноне где у нас вера-то, а и любовь?
Старик начётчик
Где? Да здеся, здесь… Не за любовь, что ль, умер человек, мужик из Домнина, Сусанин? Не за любовь он душу положил, спасая ближнего? А вся земля чем, не любовью движима, ты скажешь, единогласно обрала кого? Не из великих мира, не из славных воевод, князей, а вот, поди, безвестна отрока Романовых Михаила. За что? Добро, страданья помня великие Романовых. Вот за что.
Подьячий
Красно глаголеши, а поглядишь на белом свете: зло помнится, ну а добро реденько вспоминают.
Старик начётчик
Ложь. Ты думаешь земля, вся Русь, не помнит заступницу убогих, Грозного подружье, Анастасию? Она ведь тож Романовых.А брат её, боярин Никита Романович. К кому всяк с горем и нуждой, с мольбой о милости, избавить от обиды, от казни шёл? К нему, к Романову Никите. И улица, где двор его стоит боярский на Москве, доднесь слывёт Никитиной. Кто Грозному царю, в глаза переча, правду резал, неправду увидав царя, опалы не страшась и казни? А Грозный, все слыхали, чай, не разбирал: чужанин, свой ли родич, пощады не было. Разгневается – плаха. А сколько сгибло их, Романовых, от Годунова? Отец избранника, ростовский митрополит Филарет, доныне в Польше, в заточении. А брат его Михаил в подземелье, в цепях томился и душу Богу отдал узником. И инокиня Марфа Иоанновна пострижена тож силой в младых годах, и горя видела непочатой сусек, и ноне видит. А Михаил тож с детства в ссылке да в гонении, с младых ногтей нужду узнал. Вот что всю землю двинуло к единомыслию; молтивами святых угодников, слезами да страданьем всех Романовых земля воздвиглась, возлюбила отрока из рода их и избрала единогласно.
Подьячий
Молебен, знать, отпели. После молебна, сказали мне, пойдут послы сюда. Пропустят ли? Пойдём-ка попытаемся.
Купец
Да вон, по виду здешний. Добрый человек, не знаешь ли, где, здеся что ли, красным крыльцом пойдут послы?
Дворовый
Здесь не пойдут. Красное крыльцо у нас всё развалилось, еле держится; ступеньки поросли травой. Одно названье: красное. Пойдут ли, нет ли задним, сенным. А красным ходу нет давно; и двери заколочены. Всё ветхо. До Годунова ведь хоромы созидались, десятки лет стояли без призора, пусты. Для инокини печи перекладали, полы, оконницы, всё делали заново. А то бы и жить нельзя в них вовсе; старина. И зданья, други, тоже, что мы, грешные, ветшают, стареют. На белом свете ведь ничто не вечно. Да.
Купец
Так как же, В хоромы пустят? Может попросить приспешников?
Дворовый
В хоромы вряд. Палаты тесные; ведь выборных одних, поди, не мало. Дай Бог им поместиться.
Подьячий
А где бы встать нам, поглядеть хошь издали, пойдут.
Дворовый
Где встать-то, други? А вы хоромы обойдите; там у крыльца на сенях, что у переходов, встаньте. Там будет всё видать. А здеся не пойдут. Крыльцо одно названье – ветхо. Да.
Купец
Спасибо. Да, чай, и там народу-то труба, вряд проберёмся?
Дворовый
Там проберётеся. Народ коло собора, да в монастыре толчётся боле. Да погодите, я огородами вас проведу.
Подьячий
Спаси Бог.
Дворовый
Не на чём. Пойдёмте.
(Занавес.)
III
Кострома. 14 марта 1613 года
Сводчатая палата в доме бояр Романовых; стены и потолок расписаны притчами; травы, птицы; в клеймах на потолке планеты, звёзды, полумесяц; печи изразцовые, муравленые в празелень[4]; на изразцах рисунки с надписями. Палаты убраны; полавочники[5] цветные, кресла с высокими спинками, обшиты вишневою кожею, с золотыми травами; всё старинное линялое. В окна видны главы монастырских церквей и кровли строек. Окна отворены настежь от духоты.
Выборные из Москвы, бояре, дворяне, головы стрелецкие, два сотника казацкие, купцы стоят посреди палаты. Напротив стоят захребетники, захудалый дворянин, приспешники и т.п. Из дверей выглядывают сенные девушки и приживалки[6]. В дверях народ пытается заглянуть в палаты. Приспешники сдерживают толпу.
Инокиня Марфа Иоанновна, Михаил Фёдорович входят из внутренних дверей, за ними две боярыни, старушка няня, две сенные девушки.
Выборный
Выборные от всенародного земского собора с Москвы, кои вечор в соборе вам, осударь и осударыня, инокиня Марфа Иоанновна, били челом, просят поволить[7] им посольство править[8] и, что им от велика земского собора наказано, перед вами изречь.
Марфа Иоанновна
Сын мой Михаил и я рады их, выборных, видеть и речи их посольски выслушать.
Выборный
Благочестивого, праведного корене отрасль, царь и великий князь Михаил Фёдорович всея России, ведомо вам, оосударю, и тебе, осударыня, что праведным судом Божиим, грех ради православного христианства, царский корень пресечеся, и были избранные цари, а последний был царь Василий Иоаннович Шуйский. По общему греху всего народа московского, зависти диаволи, его возненавидели и от него отстали; и учинилась рознь у нас, и то услыша, собрались в городах с ратными людьми боярин и воевода князь Дмитрий Михайлович Пожарский да нижегородец, посадский человек Косма Минин, пришли под Москву и царствующий град от польских и литовских людей очистили; мало-помалу церкви Божии в прежнюю лепоту облеклись, и имя Божие славится в них по-прежнему. Вот что устроилось во славу Божию; а вот о государстве пещись и промышляти людьми некому; государя на московском государстве нет, и без государя на малое время быти не мощно; и виде то, боляра и окольничие[9] и всяких чинов люди всюду писали в окраинные и иные города, как бы им съехаться и на московское государство, кого Бог даст и кого всею землёй оберут, молить принять венец и скипетр и государством править. И из градов власти и выборные люди в Москве о государеве обиранье[10] много времени мыслили и порешили обрати государя из московских родов, а иных стран государем никого не обирати и о том молили Бога мнози дни, соборне[11]. И февруария в 21 день в неделю Православия пришли в соборную апостольскую церковь Пречистыя Богородицы, Честного и Славного Ея Успения, к митрополиту, епископам и всему священному собору бояре и окольничие и думные люди всех городов и гости от мала до велика; и Бог вложил в сердца единомыслие, чтобы обрать государем, царём и великим князем всея Руси Фёдора Иоанновича сродника, вас, государя Михаила Фёдоровича. И тотчас на Москве бояре, дворяне и всяких чинов люди все от мала до велика крест целовали тебе, государю, радостно на том, чтобы служить и прямити[12] без всякия хитрости, а со изменниками вам и зарубежными ворогами битися до смерти.
Боярин Фёдор Иванович Шереметев
Великий государь Михаил Фёдорович, всея России, прислали нас к вам, великому государю, и тебе, государыня, бити челом и милости просити холопы ваши государевы, боляра и окольничьи и стольники, жильцы[13] из градов, дворяне и казаки, стрельцы и всякие служилые люди, чтобы вам, великому государю, им милость показать, для христианского покоя и тишины на свой царский престол к Москве идти и своим царским приходом всех людей обрадовать. А они все, от мала до велика, тебе, великому государю, верно служить и прямить и головы свои класть, все до едина, рады будут.
Выборный
Челом бьём, государыня Марфа Иоанновна. Мы привезли тебе поклон великий от всея земли. Она, недавняя вдовица, ждёт не дождётся, государыня, свово избранника, царя и надёжу. Ты видела в соборе образ чудотворный Владычицы, образа трёх святителей московских Петра, Ионы и Филиппа. Тебе, государыня, да и всем вестно: Ея Владычицы святым покровом и молитвами святыми чудотворцев наших спаслося государство от погибели. Вот мы и принесли с Москвы, не зря, соборне, всю святыню нашу. Взываем под Ея святой защитой к вам, государю царю Михаилу. Зовём. И ты бы, государыня, благословила великим материнским благословением, навеки нерушимым, избранника земли всея, твоего сына царя Михаила. Благословишь, и потечёт благословение твоё великое, росе свежительной подобно, по всей родной земле, всё оживляя силой Всесвятого Духа Божия, живым творя и омертвевшее. Благословишь, и вновь повеет благодатью, как веяло в старь старую при благоверных святых князьях великих, стояльщиках и защитниках земли и страстотерпцах, князьях – богатырях могучих, твоих, великий государь, дедах и прадедах.
(Пауза)
Инокиня Марфа Иоанновна
Выборные, послы, болярин Фёдор Иванович с товарищи, я речи ваши выслушала и изумляюся: у нас, что у него, у сына Михаила, что у меня, чтоб быть на таких преславных великих государствах государем и в мысли нет. Он государь во младых летах. А всяких чинов люди прежним государям не прямо служили; как великого государя-царя и великого князя Фёдора Иоанновича всея России не стало и после его выбрали царём Бориса Фёдоровича Годунова, и крест ему целовали, что служить и прямить ему и детям его, а опричь иного никого на царство не хотети, а после смерти его, царевичу Фёдору Борисовичу крест целовав, тоже изменили, многие отъехали к вору Гришке Отрепьеву. И после того Гришки выбрали на государство царя и великого князя Василия Иоанновича всея России и, крест ему целовав, изменили, многие отъехали в Тушино к вору, а которые были на Москве, и они царя Василия постригли, а постригши, его и братию отдали в плен в Литву. И сыну моему, видя таковое прежним государям московских людей крестопреступление и государству от польских, от литовских и от русских людей разорение, прежних великих государей сокровища царские литовские люди вывезли, а дворцовые сёла и чёрные волости и пригороды и посады розданы в поместья дворянам и детям боярским и запустошены; а сыну моему, будучи на московском государстве, служилых людей жаловать и свои государевы обиходы полнити и против недругов стояти чем будет? Да и выбрану сыну моему на московском государстве быть опасно; ведь отец его государев, преосвященный митрополит Филарет Никитич Ростовский и Ярославский, ныне в Польше в великом утеснении; сведает король польский, что по прошению и челобитью всея земли сын его на московском государстве государем и великим князем всея России, и король тотчас велит над отцом его государевым всякое зло учинити; да и без благословения отца на московском государстве ему государем быти не мощно.
(Пауза)
Выборный
Мы бьём челом тебе, государыня инокиня Марфа Иоанновна, чтобы ты смиловалась, сына своего, великого государя, быти царём благословила. А обрали его по изволению всемилостивого Бога и Пресвятые Богородицы и всех святых, не его государевым хотением; единомысленно Господь вложил в сердца всех проавославных, от мала до велика, во всех градах Российска государства.
Боярин Ф. И. Шереметев
А об отце государеве не тревожтеся; боляре из Москвы пошлют посланников и дадут за него на размену многих польских и литовских людей, и ты бы, государь, и ты, государыня, воле Божией не противились.
Инокиня Марфа Иоанновна
Воле Божией как противиться? Но вы подумайте: я мать, у вас самих есть дети. Вам доводилось ли в огонь, на битву сына провожать? Припомните, легко ли. А тут ведь, не прогневайтеся, омут: что делалося, страшно вспомянуть… Измена, ложь царили. Из нас, Романовых, остался он один, мой сын Михайло. Отец его митрополит, вы ведаете, в Польше в заточении четвёртый год. Неужто мало вам? И сына просите, зовёте идти на лютый бой с змеёй изменою. Ведь он один, бояре, у меня. Не отнимайте последней радости.
Выборный
Господь тебя утешит. Землю пожалей, государыня.
Фёдор Иванович Шереметев
Земля без государя – труп безглавый… Враги, заслыша бесцаревье, тучей налетят, что вороны, и царство разнесут на клочья.
Инокиня Марфа Иоанновна
Храни Господь. Но думно мне, бояра и послы, для обороны муж зрелый надобен, не отрок.
Выборный (горячо)
Бог указал нам, государыня, кого избрать. А помощь, оборона тож от него, от Господа.
Голоса (некоторые встают на колена)
Помилосердуй. Земля вся слезно молит – утешь её. Твоё благословение, что солнце летнее, всё обогреет, оживит; после грозы настанет вёдро, благодать, обилье.
Выборный
Мы неотступно молим, бьём челом тебе, государю, и тебе, государыне инокине Марфе Иоанновне, чтобы вы положились на Божии судьбы,многочисленна народа слёз не презрели. А буде вы, государь и государыня, не пожалуете, не сжалитесь над земскою бедой, всё государство и святые Божии церкви и многоцелебные мощи вновь в разоренье от врагов и обруганье будут; и то всё взыщется на тебе, государь, и на тебе, государыня инокиня Марфа Иоанновна.
(Пауза)
Инокиня Марфа Иоанновна
Господи, ты веси вся: сердца людей тебе открыты. Да будет воля Божия. Ты, Мати Господа, сама любовь и милосердие, любовью помоги карать вражду и гнева племён тушити милостью. К тебе, Владычица, надежда безнадежных, к твоим стопам падём; прияв под свой покров святой, благослови царя-избранника и достоянье Божье – царство.
Голоса (вполголоса)
Собор отворен ли?
Приспешник
Отворен… Владыко там с утра молебствует. (Инокиня Марфа Иоанновна и Михаил выходят на авансцену. Им подают платна[14])
Выборный
Да разрастается ветвистым древом твой многострадальный, доблий род; века да царствует! Тебе, ростку молодому, пошли Бог благодать и мир. Путь царский – трудный путь. Под кровом крыл Архистратига шествуй стезёю правды, государь, и милосердия, по старине храня святую веру, ею же сильна, неодолима Русь. Чти память прадедов; они незримо, вечно с нами. Народ снискал и возлюбил тебя, любовь их помня. А где любовь, там и Бог.
Надя
(отрывок из поэмы)
Давно ль на пустыре стоял господский дом,
Конюшни, мельница и баня за прудом?
От мельницы вилась оврагами дорожка;
Ромашка, зверобой, шиповнику немножко
И Божье деревцо – по сторонам росли,
Мы, точно просекой, бывало, дети шли,
А нянька старая кричала: «Погодите!
Куда вы, точно угорелые, бежите?!»
Вот под горой тропа нежданно порвалась…
«Ручей, ручей видать!» Ватага погналась.
Старуха: «Больше брать не стану за грибами».
А там за камешки уж спор идёт меж нами.
По камешкам цветным, сверкавшим под водой,
Бежал ручей, звеня хрустальною струёй.
За речкой бор темнел и, будто исполины,
В крутую гору шли, неся свои вершины,
Берёзы, сосны, клён, развесистые ели…
И боязливо мы в лесную даль глядели:
«Ну, леший закричит нам вдруг издалека, –
Аукнется! Беда!» Струхнули. Ждём пока,
Не торопясь, с холма сойдёт с плетушкой нянька.
Боимся, а друг друга, знай, пугаем: «Глянь-ка,
Никак ведь шевелится кто-то под кустом?..»
Один смельчак, было, и к лесу – шасть бочком.
Вдруг птица – пырь с куста, крылами затрещала,
И к няньке с смельчаком ватага побежала.
«Вот то-то, а вперёд бежите… Отдохнём» –
Старушка встретила, и на лугу кружком
Уселись мы. Одни легли и вверх глядели.
Где плыли облака и небеса синели,
Где ястреб в вышине распластанный стоял,
И жаворонок в луг со звоном ниспадал, –
Носились ласточки, шалуньи щебетали,
Две бабочки-цветки кружились и играли…
Другой, расшевелив рукой траву густую, –
Где жизнь безжалостно мы топчем зачастую, –
Глядел, как Божия коровка и жучок,
Вскарабкавшись с трудом на тонкий стебелёк,
Что капельки росы, едва держась, висели…
А сосны над ручьём вершинами шумели,
В темь зазывая нас. «Пойдёмте же, – пора!
В лесу прохладнее, а здесь печёт, жара!»
Старушка поднялась, и робкою толпою
Вступили дети с бор с таинственною мглою.
Им жутко; держатся за ситцевый подол;
Друг другу шепчут: «Леший бы не обошёл…»
Вот сучья под ногой сухие захрустели,
И детские уста от страха онемели.
«Мы недалёко, ведь? В глушь, няня, не пойдём?..»
Но няня занялась приземистым грибом:
Под елевым сучком, прижавшися к пенёчку,
Уселся боровик; и надо же листочку,
На грех, откинуться, когда мы подошли
И сучья ельника руками отвели.
Старушка – в ридикюль, очки свои достала
И шляпку красную под ёлкой увидала.
«Гриб детки! – ахнула. – Анафема будь, гриб!»
И бедный боровик не усидел – погиб.
«Какой хорошенький!» – мы, дети, закричали,
Глазам не веря, шляпку красную сломали,
И боровик в плетюшке. «Вот судьба!» –
Нам, деткам думалось, и стало жаль гриба.
Но скоро гриб забыт: пучочки костяники
Манили из-за лоз ползучей повилики.
Мы к ним. А подле, глядь, стоят, кивают нам
Два колокольчика и глазки – там и сям.
«Венок такой совью!» – уж девочка хлопочет
И тут же в волоса воткнуть цветочек хочет.
Цветок не держится. – «Ну, няня, помоги!» –
«Постойте, груздь, никак, у самой у ноги…» –
Ворчит старушка, вновь очечник вынимая
И палкой лист сухой тревожно расчищая…
Родимый дальний край, златые детства дни!
Сокровища моей измученной души –
Воспоминания о прошлом, речи, думы…
Так солнца мощный луч и в осенний день угрюмый,
Прорвав густую ткань свинцовых облаков,
Осветит разом всё: кладбище, ряд домов,
Реку, покосы, даль и церковь под горою
С сияющим крестом – небесною звездою.
[Из поэмы «Надя» танец девушек]
«По синю морюшку», – запели тихо скрипки, –
Пахнуло ландышем, берёзкой, цветом липки…
Так пахнет рощицей над тихою рекой,
Где девушки венки плетут в семик весной.
Берёзку, лентами увешав, завивают,
Кумятся и венки по речке вдоль пускают.
Лелеет те венки весенняя волна…
Звончее залилась, заплакала струна…
«Вдоль по морю», – вдали откликнулись шалуньи,
«По морю», – голосок затейщицы-певуньи
Завёл… «По морю вдоль», – пригрянул хоровод,
И к окнам со двора шарахнулся народ.
Хмелинкой, ленточкой, сквозь дверку боковую,
Тянулись девушки под песню хоровую
И, взявшись за руки, что цветики в венок,
Сплелися, красные, под песенку в кружок.
Горели личики, пестрели сарафаны,
Белели рукава, что росыньки туманны
Над пёстрым луговым, узорчатым ковром,
И русы косыньки за мраморным плечом,
Девичьей волюшки приметы дорогие –
Синели ленточки на чёлах, голубые;
От тех ли волек-лент ещё ярчей играл
Румянец девичий… Прадедный дом дрожал…
Думы
Самогуды-гусельки, гусельки старинные,
Звонкие, яворчаты, гусли вы мои!
Струны чиста золота, струнки заунывные,
Яркие, певучие струнушки-огни!
Ты ли, гостья милая, лёгкой вешней тученькой
С ветерком полуденным нёсшись над землёй,
Притронула струнушки белой своей рученькой, –
Вещие пригрянули песенкой родной?
Песенкой знакомою, звонкою, весёлою.
Что певал бывало я в красные деньки,
Песней пододонною, думушкой тяжёлою,
Что в грозу срывалася молнией с души.
Словно из-за реченьки, утром свежей росынькой,
Веет мне кошёною, полою травой,
Точно снова прежнею еду я дороженькой,
И колышет полюшко рожью золотой.
Вот она, кормилица, мать река раздольная,
Паруса, что лебеди, нехотя плывут…
Юность невозвратная, жизнь моя привольная!
Думы мои ласточки по небу снуют.
По небу, по небушку, молоньёй огнистою
Мечутся с серебряным звоном в ширь и в высь,
То, нагрянув дождичком, над волною быстрою
Вниз по Волге матушке, смотришь, понеслись.
За притон царицынский, где гулял-пошаливал
По осенним ноченькам атаман донской,
На бою натешившись, жаловал, причаливал
Ночевать ко вдовушке, бабе молодой.
Знала ль Волга матушка, знала ль тёмны ноченьки,
Ведал ли, Хвалынщина, ветер низовой,
Как до зори-зореньки, не смыкая оченьки,
Сиживал со вдовушкой сокол молодой?
Где те речи жаркие, песни задушевные,
Поцелуи, проводы с утренней зарёй,
Над златым колечушком думушки бессменные:
«Любит впрямь, аль тешится надо мной, вдовой?»
На полупесне струнушки хором всколыхалися,
Ведьмой, зимней вьюгою взвыли, залились…
Ельничком, березничком думушки помчалися,
Неоглядным полюшком, степью понеслись.
Холодна крещенская ноченька беззвёздная.
Колокольчик плачется, стонет и визжит,
Не спознать дороженьки, сгибла непроездная,
Непогодь, метелица, мечет и крутит.
Встрется, выдь, красавица, с бровью соболиною,
Вихорь приласкается, шубку распахнёт,
И умчится с посвистом прытью соколиною,
Вздумает, надумает, может, завернёт.
8 февраля 1877 года
В деревне
Страстная. Благовест. К заутрени звонят.
Иду тропинкою к ограде через сад.
Морозно. Ветерок, нет-нет, да и подует.
На роще за селом уж тетерев токует.
Весна, а утренник порядком приобрал,
Сковав ледком поток, что робко побежал,
Пригретый солнышком полуденной порою,
Соскучившись дремать под снежною корою.
По насту на грядах гуляют три грача,
Прозябли и они, ждут тёплого луча.
В деревне петухи там сям заголосили.
На небе розовом уж трубы задымили.
Старушка тянется к погосту с подожком,
Ребята сонные бредут монастырём.
«Чертога» грустный глас навстречу плыл из храма,
Несомый на волнах тягучих фимиама…
Смиренный образ Твой к нам снова тихо шёл,
Под дальний перезвон соседних мирных сёл,
Полями нашими, просёлками, тропами.
Любовью встреченный, Ты скажешь: «Здесь Я, с вами»,
Но в сёла, где огни погашены любви,
«Не имать внити» Гость, зови иль не зови.
Идёт Он не карать, не грозным судиёю,
Идёт, что вешний луч над снежною землёю,
Чтоб кротко озарить, овеять теплотой,
Забытые людьми за суетой мирской,
Растенья, что к Нему в глуши утреневали[15]
И света, как тепла, весной берёзки ждали.
1876
Из письма С. А. Юрьеву
Близ рубежа страны, откуда нет возврата,
С вершины старых лет я в прошлое смотрю;
Над пройденным путём горят огни заката,
Румяня предо мной вечернюю зарю.
Ночь будет не длинна, заря с зарёй сойдётся;
Вздохнув о дорогих, я сброшу лишний хлам,
Забудусь, и в душе избавленной займётся
Заря не здешняя с весенним утром там,
В краю, где нет ни туч свинцовых, ни ненастья,
Ни фарисейской лжи под маскою добра,
Ни мыльных пузырей, даров земного счастья,
Ни злобы, ни разлук у смертного одра.
Орошена дождём Господней благодати,
Озарена лучом святой любви страна,
Благоухает век цветами сеножати
И нив с колосьями нетленного зерна.
От юности душа туда утреневала,
Как птица вольная, в леса из западни,
В семью родных друзей отшедших зазывала,
Мечтою уносясь в былые детства дни.
1884
Гусляр[16]
Петру Ильичу Чайковскому
Шёл гусляр дорогой,
Гусли под полою,
Встречу удалому
Люд честной гурьбою
Парни, молодицы
Гусли увидали:
«Заходи в деревню,
Поиграй», – пристали.
Сел гусляр за гусли,
Пробежал перстами…
Словно вешний ветер
Шевельнул листами.
Слышь, щебечут птицы,
Ручейки струятся,
И с весёлым звоном
Ласточки резвятся.
Вот по небу туча
Тихо наплывает,
Над дремучим лесом
Молния сверкает.
Вот зимою вьюга
Взвыла ведьмой злою…
Грустно сердце ноет,
Будто пред бедою.
Но проснулись струны,
Солнце засияло –
И грозы, и вьюги
Словно не бывало.
Вновь весною веет,
Муравой травою.
Снова даль синеет
Над Днепром рекою.
Где ты добыл гусли,
Струны золотые?
Где ты взял, подслушал,
Песни заливные?
Русь ли богатырка,
Что тебя родила,
Силушкой и мощью
Сына наделила?
Пой, гусляр наш славный,
Радуй многи лета,
И прими с любовью
Этот звук привета.
1886
Речь, произнесенная 3 июня в Обществе Любителей Российской словесности на открытии памятника А. С. Пушкину в Москве
В жизни, в истории, в судьбах человеческого духа есть свои вековые заветы, свои обетования, чаянья и оправдания. Песнетворчество, поэзия была искони провозвестницею великих мировых переворотов в области мысли, науки, ведения; она не только всюду и всегда первая, – как полный упований отрок, – с знамением победы выходила на встречу приближающейся к отроку истине, но была и зарею, предваряющею утро.
Нарождение великого поэта есть тайна, чудо, милость, ниспосланная народу, миру, племени; его не объяснишь одной потребностью века, как и величия творений гения не сыщешь лишь в задатках почвы, земли, его породившей; на гордую пословицу «каково поле, таков и колос, таково и жито», нам справедливо возразят другой русской пословицей – «не поле родит, нива». Не подыми, не возделай, не всхоль труженик-пахарь поля, оно не даст золотого, нетленного зерна, а станет глохнуть.
Широко озаряя Божий мир тёплыми лучами красоты, поэзия, искусство, Муза всегда ждала и ждёт любви, тепла, ответа, вести сердечной от внимающих, не для себя, не для венцов, ненужных ей, увенчанной от века, но для того, чтоб взгревать любовью нашею, для нас же великий, ей вручённый свыше дар, – дар чудодействовать.
Нынешней день, когда, не смотря на тяжкую, недавнюю свою утрату, вся Русь, вся из конца в конец, единым сердцем, ринулась чествовать великого певца своего, есть благодатнейший на славном веку творчества родного слова. День этот обещает не один богатый урожай на ниве, честно возделанной великим вещим нашим пахарем.
Да... Это был могучий, богатырь-оратай; брошенную им за ракитов куст соху, как ни вертят, со всех сторон, за обжи, другие, и не бессильные оратаи, – не подается, не ворохнется покуда соха богатырская. Недаром так глубоко, до материка взорала, подняла она непочатую землю, коренья, каменья вывертывая; недаром так богаты и свежи, здоровы и могучи вешние всходы русского художественного слова.
Но для того, чтобы понять, как не лёгок, велик был подвиг, труд нашего пахаря, надо, хоть наскоро, взглянуть, припомнить, чем было словесное поле, в тот благословенный день, когда впервые приехал он на свою великую работу.
Говоря о словесности изящной, я не упоминаю о духовном русском красноречии, так как оно допускалось в новомодные помещичьи хоромы российской словесности с одними требами, или когда приходили славить.
Дикое, непочатое поле живого слова русского было засорено чужеземным псевдоклассическим щебнем, пудрою, утыкано коленкоровыми цветами, завалено битым фаянсом и старыми робронами после разных мадам де Помпадур, Ментенон и Людовиков. Вот слова самого Пушкина о нашей словесности в начале нынешнего века: «ничтожество общее; французская, обмельчавшая словесность envahit tout; знаменитые писатели не имеют ни одного последователя в России, но бездарные писаки, грибы, выросшие у корней дубов, Дорат, Флориан, Мармонтель, Гишар и мадам Жанлис овладевают русскою словесностью».
Из-под этой рухляди, этого хлама, натасканного прилежными любителями изящного слова для украшения родных лугов и пажитей, пробивалась иногда природная сила – мощь; я не говорю о Державине, Крылове, Карамзине, Жуковском; и у других душевный вулкан не выдерживал, прорывался там и сям порою живым пламенем, но это пламя русской, самородной мысли, вылетев невзначай на Божий свет, пугалось тотчас же само себя, мысль пряталась из боязни как бы не увидали её сарафана иностранцы, рядилась снова в иноземный наряд и принуждала могучее наше слово съёживаться и картавить, чтоб походить на парижанина. Этот иноземный жаргон русской речи нравился в юности, по собственному признанию, особенно в женских устах, и самому Пушкину; но юный гений, рано заслышав сердцем величавую простоту родного слова, тут же залюбовался тем, что
.......гордый наш язык
К почтовой прозе не привык.
Как же это вдруг, – ни с того, ни с сего – в двадцать лет угораздило нашего певца, сразу, сквозь этот одуряющий туман заграничных парфюмов, увидать
У Лукоморья дуб зеленый
Златую цепь на дубе том?
Через леса, через моря, какой колдун перенёс богатыря певца прямёхонько туда, где русский дух, где Русью пахнет?
Вспомним, что первые стихи народный наш певец написал по-французски, изломав для иностранной рифмы даже, славное в веках, имя свое из Пушкина в «Pouchkine».
Я нахожу один ответ на это и повторю: в судьбах творческого слова есть тайны, «от века умолоченные».
Как тяжек был видению тогдашних литераторов двадцатилетний поэт, мы видим из разборов и, между прочим, из ожесточённой критики «Руслана и Людмилы», поэмы, – вспомните – двадцатилетнего Пушкина, сразу облюбованной всею Россией, кроме, разумеется, книжников и фарисеев. Один, какой-то; еще «увенчанный, первоклассный» писатель, как говорится в предисловии к одному из изданий поэмы, приветствовал молодого певца стихом: «мать дочери велит на эту сказку плюнуть».
Нам теперь сполагоря, легко трунить над этими разборами, но каково было молодому певцу под градом таких приветствий нести на люди святыню души своей; да еще вместе с обретённым им только что заповедным, вековым кладом творчества народного, – это, по пословице, «знала лишь» его мощная «грудь, да подоплека».
В довершение, – и, может быть, не без участия тех же ревнителей чистоты нравов и изящества вкуса, – двадцатилетнего певца судьба загоняет куда-то к Молдаванам, в Бессарабию; и вот он, с Байроном в походном мешке, в красной рубахе и поярковой шляпе, летит на почтовых, – что сказочный Бова на самолёте ковре, в тридесятое царство, на море-океан, в Кишинёв, в Одессу, словом, туда, где русского духа видом не видать и слыхом не слыхать.
Такое, положение славного певца нашего в эти ранние годы, а с ним и русской речи, напоминает положение богатыря царевича, запрятанного вместе с матерью в бочку на другой же день рождения; бочку заколотили накрепко, бросили в море, плачет, бьётся царица, ребёнок растёт не по дням, а по часам.... Сжалилась какая-то волна, вынесла бочку на берег.
Мать с младенцем спасена,
А из бочки кто их вынет?
Бог неужто их покинет?
Но вот,
Сын на ножки поднялся,
В дно головкой уперся;
Понатужился немножко....
«Как бы мне на двор окошко
Попроделать», – молвил он,
Вышиб дно и вышел вон.
Что в Кишинёв не залетала даже лебедь поговорить, для практики, с поэтом на родном языке, это доказывается просьбою к его брату не писать к нему французских писем, а то, говорит, позабуду совсем, русский язык и русскую грамоту. Да, впрочем, во дни оны, и в белокаменной, – в сердце России, – не диво было позабыть по-русски, вращаясь в одном высшем обществе.
Не смотря на все это
Вот открыл царевич очи,
Отряхая грёзы ночи;
Видит город он большой,
Стены с частыми зубцами,
И за белыми стенами
Блещут маковки церквей
И святых монастырей.
Это явилось в сказке, по лебединому веленью, на пустом острове, сказочному царевичу; но, – тоже ни дать, ни взять, как в сказке, только неизвестно по чьему веленью, в душе отторгнутого воспитанием, обществом, слоем, в котором родился, – в душе богатыря певца, явились русские коренные, незапамятные по старине, а, между тем, живые, близкие, родные всем нам образы. Говорят: нянька у него была... Но, у кого же из тогдашних бар и не бар, сочинителей не было сказочницы няньки, бабушки рассказчицы? Отчего же никому эта неясная весть старины не запала так глубоко в сердце, как, помешанному на Байроне, барчёнку, подростку Пушкину?
Нет, нам сдаётся тут не одна нянька.... Кто-то другой ещё указал юноше заросшую тропинку к стародавнему тайнику, где были заперты мудрёными, немецкими замками, наши Бовы и Ерусланы, русалки, царь-девицы с жар-птицами и золотыми петушками. Стучались, торкались, правда, в эту пору в дверь и до него, счастливца, и не раз, другие, но никому не отворилась заповедная. Один великий, светлый, детски чистый и простой, – как всё великое, – могучий юмор юноши Пушкина вызвал из-под земли, опять на Русь, весь этот чудный, пёстрый, неугомонно шаловливый рой забытых было русских сновидений, рождённых русским сердцем, русскою душой, русскою почвой призраков.
Этот громадный, величавый подвиг, – вековое, всемирное событие в истории творчества слова, – эта мировая служба воссоздания и облеченья во всеоружие красоты мифа народного была совершена богатырём художником так просто, так легко, что всем казалось, – да и кажется ещё доныне, – службицей, не службой. Отогретый пламенем любви певца к родному, оживлённый чудодейственною силою творчества, озаренный лучами красоты, народный русский миф отныне делается достояньем всего человечества и вводит нашего поэта в великую, бессмертную семью гениев всех веков и всех народов.
В эти же дни, другой великий, единоплеменный нам, певец шёл, но уже более торною дорогою, в ту же заповедную глубь славянского духа; влюбленный в полудикую красавицу, Литву свою, он, одинокий, на чужбине, делал одно дело с русским певцом волшебником. Как было не обняться им, друг другу не подать сердечной весте, как не слетаться на общий остров петь свои бессмертные, вещие песни, встретившись в недрах родного им обоим материка, где очутились певцы, отправясь с разных мест и разными дорогами?
Так песня первая делается миротворцем двух поссорившихся братьев, народов польского и русского. Мицкевич переводит Пушкина; польский, литовский миф чрез Будрыса, Марину, панну, воеводу делается своим в семействе коренных наших русских образов.
Среди пробуждённых от векового, непробудного сна, спасённых от забвенья ликов, Пушкин стал сразу, как в родной семье, как дома, нигде так ярко не горит, так обаятельно не блещет его юмор, нигде не привлекательна так добродушная его улыбка, как среди них, в Руслане, в сказках и всюду, где они выглянут, появятся. Простота, правда, жизнь, которыми благоухают эти полевые цветы, эти, заглохшие было, чудные побеги души народной, тотчас же сделались немыми обличителями всего ложного, ходульного, чужого в русском песнетворчестве. В первый же день возрождения родного мифа, словно от дуновенья богатырской головы, взвились и улетели невесть куда, на веки вечные, все коленкоровые букеты, тогдашней нашей поэзии, вместе с Агатонами, Хлоями и пудреными пастушками. Воздух очистился, гусли певца преобразились. С вещих золотых струн, о чём бы он не заиграл, полетели, что ласточки, повеяли ласкающие будто вешний ветерок, благоуханные, как полюшко, как роща, тёплые, родные наши звуки; точно весной всё пробудилось, ожило; повеяло сосной, берёзкой, ландышем, черёмухой.
Читая стихотворения его, кто не чувствовал, что высказанное певцом давным давно бродило у меня, у вас в голове, на сердце, на душе, а теперь созрев, выяснившись, только воплотилось в гармонический стих, в ясное, прозрачное, что струйка ключевой воды, звонкое слово. Кроме картин и образов, душевные движенья, помыслы, грёзы, чувства – всё не чужое в них, – этих весенних, тёплых песнях, всё наше человеческое, русское. Как будто
....весла зашумели
И всё оставя за собой,
В залив отчизны дорогой
Мы с гордой радостью влетели.
Эта роскошная весна русской поэзии не повторится. Будут великие поэты на Руси, но уже Пушкина, весны не будет.
Дух занимается, когда попробуешь окинуть, охватить умом, необозримую, ни в ширь, ни в даль, возделанную пахарем нашим ниву! Вся гамма русской души; весь мощный, обаятельный звон языка русского, начиная от высокого, молитвенно-торжественного возгласа, от неуловимых, ангельски чистых звуков материнской ласки до удалого посвиста отпетого гуляки, всё-всё откликнулось эхом, что в заповедном лесу, в великой, будто Русь сама, душе поэта.
Ограниченный временем я должен умолчать об исторической, русской драме, скажу лишь, в ней, впервые, повеяло нашею стариною: читая, будто входишь в старинную, русскую церковь с тёмными ликами икон и длинным солнечным лучом, ворвавшимся в окошко...
Но об одной ли драме я должен умолчать, не по одному недостатку времени, но и по недостатку подготовки, сил, и, повторю, по необъятной ширине нивы, возделанной нашим поэтом; на ней найдутся завязи не только всему созданному после него, но и имеющему создаться в русском творчестве слова. Один образ русской красавицы Татьяны, образ, навеянный теми же вековыми, пробужденными певцом, грёзами души народной, чего, чего, не вызовет, – заговори о нём. А роман, а повесть, а история?..
О многом уже сказали и ещё скажут, разумеется, больше и лучше меня, знаменитые представители науки и изящной словесности, собравшиеся на наш праздник.
Возрождение русского мифа неминуемо отзовётся всюду, а покуда отозвалось ещё только у нас в России, в области искусств образовательных. Ваяние получает новый, непочатый мир мифа, образов свежих, обаятельных, вызывающих улыбку, какую вызывал разве античный, греческий юмор, не опошленный ещё грубым прикосновением гордого Рима. Наш москвич, академик С. И. Иванов, в модели своей памятника Пушкину, бывшей в числе других на конкурсе и находящейся здесь на нашей выставке, как бы изваял из скалы, заменяющей пьедестал, целую семью воссозданных поэтом нашим образов.... Сказочный мир с Людмилою, Бабой-ягой, Горынычем, по единогласному отзыву знатоков и художников, есть один из счастливейших скульптурных замыслов; взгляните и на эскиз русалки, готовой, кажется, сорваться с бережка и булькнуть в воду.
Художников звука, начиная от бессмертного Глинки, Даргомыжского, Рубинштейна до молодого, даровитейшего ученика его, Чайковского, гостеприимная область пушкинских образов, видений, грёз и чар не раз зазывала и будет долго зазывать в гости.
Побывав в вековых, подземных тайниках материка родного, оживив допотопные созданья девственной, дикой ещё творческой народной силы, добыв меч-кладенец слова русского, обратав, объездив крылатого коня богатырского, погуляв, натешившись, вволю, в «чистом», необозримом поле родного вымысла, певец, благословясь, раскрыл русскую летопись; с нею в руке, она подходил к преддверию, к завесе, к скинии, кивоту, где хранилась и хранится искони заветнейшая, вечная святыня души русской, духа русского, шёл, полный веры, и любви. И в эту-то минуту общих упований, в виду обетованной земли родного творчества, Россия, мир лишились Пушкина.
Лишились для того, чтобы через полвека, уразумев, найти его.
Вот где, пред трапезою храма остановилась его творческая мысль.... Из врат обители Пречистой Девы, – как бы встречая днесь, – Россия и вынесла свои венки и лавры, увенчавшие поэта; а радостная весть об истинном бессмертии души его нам раздалась из уст, – как бы пришедших от видения, – русских отшельниц, дев, родных сестёр той, не чужой нам, женщины, которую так возлюбил певец и оценил неслыханной ценою.
Невольно вспоминается здесь дума вещего певца, раскрывающая одну великую, задушевнейшую тайну из трудовой жизни его духа, его творчества.
В простом углу моём, средь медленных трудов,
Одной картины я желал быть вечно зритель,
Одной, чтоб на меня с холста, как с облаков,
Пречистая и наш божественный Спаситель,
Она с величием, Он с разумом в очах,
Взирали кроткие во славе и лучах
Одни, без Ангелов, под пальмою Сиона;
Исполнились мои желания. Творец
Тебя мне ниспослал, Тебя моя Мадонна,
Чистейшей прелести, чистейший образец.
Вот он, тот вечный совершеннейший прообраз нетленной и чистейшей солнца красоты, перед которым думал и молился в мастерской своей наш русский песнопевец вот чудотворный лик, пред коим теплил он неугасимо, жарко до конца, священный пламень творческого духа.
Храня завет певца, да шествует же под Её святым Покровом вечно, без гроз, без туч, из силы в силу, да грядёт родное творческое слово, на наслажденье человечеству, на радость русских людей, на честь и славу нашей матери, России.
Н. Чаев.
"Русская Мысль", № 6, 1880
[1] Ламовский Александр Михайлович – товарищ Достоевского по пансиону Л. И. Чермака в Москве.
[2] Сенные девушки – девушки, находящиеся в услужении господ.
[3] Захребетники – в 15–17 вв. категория зависимых людей, не имевших своего хозяйства, живших и работавших «за хребтом» хозяина.
[4] Муравленый – глазированный, Празелень – иссиня-зеленоватая, земляная краска
[5] Полавочник – холст, коврик для покрытия лавок.
[6] Приспешники – люди, находившееся в разных формах зависимости от феодала (холопы, закупы, смерды и др.). Приживалки – бедные женщины, жившие из милости в чужом богатом доме, не имевшие никаких определенных обязанностей и развлекавшие хозяев, составляя их общество.
[7] Поволить – захотеть, пожелать.
[8] Править – осуществлять верховную власть
[9] Окольничий – второй (после боярина) думный чин Боярской думы.
[10] Обирать – выбирать, избирать на должность. На Московское государство обрати (решили) Михаила Федоровича.
[11] Соборне – вместе, всем собором, при участии многих мирян и священнослужителей. Служили соборно молебен.
[12] Прямить – говорить и поступать прямо, открыто, по правде.
[13] Стольник – Придворный чин рангом ниже боярского (в Древней Руси – придворный, прислуживавший за княжеским или царским столом). Жилец – уездный дворянин, живший при государе временно, на воинской службе.
[14] Платно царское – царские регалии; одежда, входящая в состав Большого наряда. Употреблялась в особо торжественных случаях: при венчании на царство, при встречах иностранных послов, во время праздников.
[15] Утреневать – рано вставать, пробуждаться и становиться на молитву на утренней заре.
[16] Читано на ужине после первого представления в Москве оперы «Черевички»